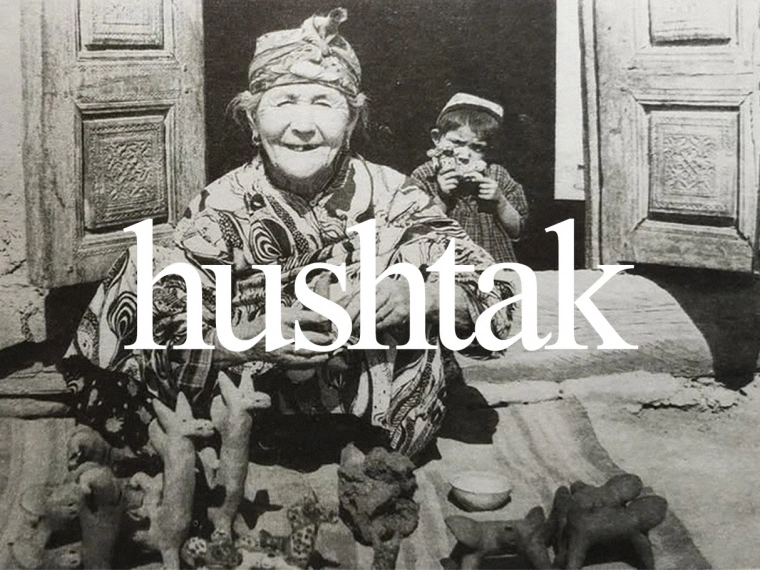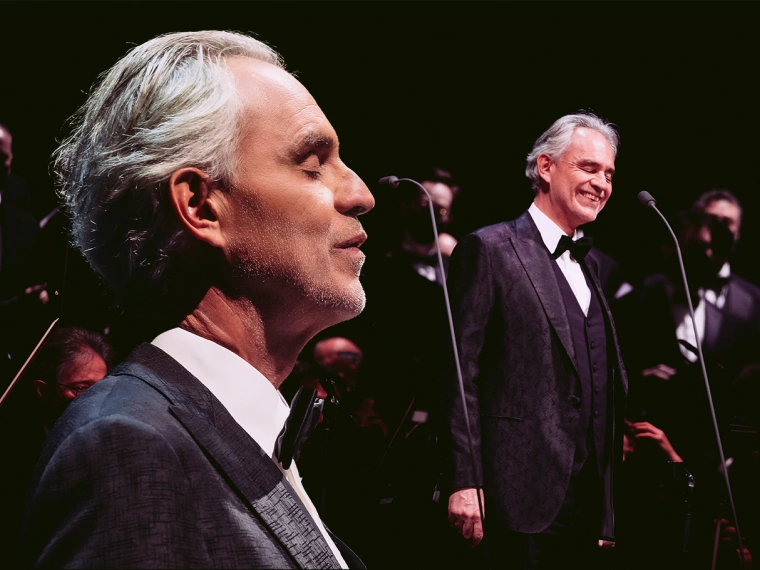Почему культура саха находит отклик по всему миру: о музыке, празднике лета и традициях
В новом материале Степи состоялась интересная беседа с яркими представителями саха-культуры: виртуозом-хомусистом Эркином Алексеевым, этно-певицей и актрисой театра Олонхо Анастасией Алексеевой, первым саха рэпером и поэтом Гошей Васильевым (Jeedda), основателем и продюсером музыкального проекта URAAN Айталом Алексеевым, а также креативным директором и сооснователем коммуникационного агентства Tymtyk Лориной Гуляевой — одной из ключевых фигур проекта Yhyaq Almaty.
Помимо общего культурного кода, их объединяет любовь к музыке и празднику Ыhыах. Они собрались за одним столом, чтобы поговорить о различных направлениях в традиционной саха-музыке, развитии праздника Ыhыах, современных тенденциях в культуре саха и объяснить, почему это находит отклик у людей не только в Казахстане, но по всему миру.
Эркин Алексеев: И инструментальное, и вокальное искусство нашей культуры часто повествуют о лете. Хотя лето у нас короткое, оно ощущается как «маленькая жизнь». Если зима кажется некой паузой, то лето — время, когда происходит все самое важное. У нас почти нет песен о зиме, потому что ее и так слишком много в наших буднях.
В старину, конечно же, жизнь была трудной. Невероятно сложные климатические условия. Почти девять месяцев в году минусовая температура, что сильно влияло на психику людей. Даже сейчас, живя в квартирах, все с нетерпением ждут весну. А в прошлом, в тесных земляных юртах, где жили по несколько семей, было еще труднее. Зимние вечера были долгими — темнело с 4-х часов дня, работать было невозможно, а ложиться рано не хотелось. У людей было много времени для досуга, но подавленное состояние и длинная зима оставляли свои отпечатки.
Эта надежда на скорый приход весны отражена в мотивах наших песен. Даже хомус, традиционный стиль «сыыйа-тардыы» (протяжное исполнение), зародился как способ излияния души через звук. Он помогает справляться с тяжелыми эмоциями, даря внутреннее облегчение.
Бытует мнение, что звуки хомуса лечат. Но они не исцеляют напрямую — это не так, что издал звук, и больные почки стали здоровыми. Это происходит через психологическое воздействие, ведь через успокоение души человек может исцелить и тело. Так, наши предки нашли в музыке рецепт облегчения боли.
Уникальностью народа саха является то, что мы возвели хомус на первое место. Более чем у 250 наций есть инструмент, похожий на хомус (у казахов, к примеру, шанкобыз), но он никогда не занимал центрального места в культуре. У саха хомус занимает первостепенное значение, поскольку резонирует с менталитетом. Существует понятие этнического звукоидеала, и звук хомуса очень нам близок. Особенно это касается гортанного призвука «кылыhах». Согласно теории, это связано с тем, что наши предки, распевая во время езды верхом, сталкивались с тряской, которая создавала естественные фальцетные призвуки. Со временем это стало частью фольклора.

Помимо хомуса, у нас представлены и другие инструменты, характерные для тюрко-монгольских народов. Инструмент подобный казахской домбыре у нас называется «тансыр», а кыл-кобызу соответствует «кырыымпа» или «кылыһах». Есть также ударные инструменты, такие как шаманский бубен — «дүҥүр», барабан — «күпсүүр», «табык» — натянутая на раму шкура и др.
Кстати, о сочетании современного с традиционным: некоторые коллективы и исполнители уже используют шаманский бубен в качестве ударного инструмента на сцене. Более традиционные люди их критикуют. Почему? Потому что у нас до сих пор сохранилось глубокое уважение и трепетное отношение к этому инструменту. Не каждому человеку дозволено не только играть, но даже прикасаться к нему. Тем не менее, бубен постепенно входит в исполнительскую практику.
Анастасия Алексеева: У нас есть, что сказать о прошлом. Например, «тойук» — это уникальное явление, которое подразумевает народную национальную песню-импровизацию. Наши предки исполняли тойук, когда не могли выразить что-то словами. Но они не пели громко и непрерывно. Мы живем в холодных краях, где крик на всю мощь может привести к болезни горла. Поэтому пели тихо, словно из глубины души.
Другой вид — это дэгэрэн. Когда саха оседлает коня, он начинает петь. Конь для народа саха — это высшее божество, «Дьөhөгөй» — как мы его называем. Ритм скачущей лошади находит отражение в стиле дэгэрэн, и эта темпоритмика существует до сих пор, даже в современной музыке.
Эркин Алексеев: У саха преобладает именно вокальное искусство, а инструментальное исполнительство, именно в традиционном плане, немного уступает. Поэтому у нас развито устное творчество — песенная культура. Всё песенное разнообразие делится на два основных направления: «дьиэрэтии ырыа» — высокий стиль, где исполняются песни-импровизации «тойук» с насыщенным тембром и гортанными призвуками «кылыhах».
И второй пласт — «дэгэрэн», более динамичное звучание. Народные песни исполняются именно в этом стиле. Многие исполнители сегодня хоть и являются артистами эстрады, по сути развивают этот стиль.
Гоша Васильев: Если тойук — это высокое искусство в прямом смысле, дэгэрэн же — это бытовой, народный ритм, поэтому он чаще используется в популярной музыке.
Моему отцу почти восемьдесят лет, и он ждет, когда я перейду на олонхо, древнейшее эпическое искусство саха. Для него это кажется логичным. Для человека его возраста рэп музыкально понятен, ведь он напоминает повествование олонхо.
Анастасия Алексеева: Сначала, когда ребенок маленький, его учат скороговоркам, затем «таабырын» (загадкам). А уже потом, как к более высокому искусству, можно перейти на олонхо. Даже Jeedda, исполняя рэп, сохраняет связь с жанром «чабырҕах» (скороговорки), которые читаются быстро.
В олонхо имеются свои каноны. Сейчас есть зафиксированные. Первый записан во второй половине XIX-го века, но большинство зафиксированы в начале XX-го века. Поэтому, к счастью, сейчас мы имеем более 300 разных произведений олонхо.
Только в одном содержится от 10 до 30 тысяч строк. Олонхоhут (сказитель) могли выступать по три дня и три ночи, а то и больше.
Все это переходило из уст в уста. Когда олонхоhут ходил по алаасам (особая форма рельефа, характерная для Якутии, поле или луг в лесу рядом с озерам, где традиционно селились саха), с ним всегда был ученик, который слушал и запоминал.
Выступление включало все жанры, которые мы перечислили. Сначала это рассказы, плавно переходящие в пение, там есть и чабырҕах (скорочтение). Использование разных жанров — показатель максимального мастерства.
Зимой это превращалось в развлекательную программу, занимательный досуг. Люди работают целыми днями, а вечером садятся вокруг камелька (у печки из глины у саха) и смотрят на огонь. Они собираются семьями, и тогда приходит олонхоhут и дает свою программу. Людям было радостно, когда он приходил каждый вечер и рассказывал олонхо.
Но даже здесь все говорили о лете. Например, при описании героических поступков богатырей, олонхоhут описывал события внутри летнего сезона. У нас много эпосов олонхо и почти во всех действия происходят в летний период.
Лето, которое никогда не кончается. Через Олонхо наши предки выражали свои мечты, грезы о лете, представляли пение птиц, восход солнца и как вокруг все прекрасно. И конечно же, ждали Ыhыах!

Степанова Тимофея Андреевича, 1979
Эркин Алексеев: Наш эпос, в отличие от других, не основан на реальных исторических событиях, но повествует глобальные смыслы. Он не имеет времени в нашем понимании и в нем не говорится об определенном периоде. Он не про сам народ Саха, а про далеких-далеких предков, которых называют «Айыы аймаҕа» — родственников творцов, подразумевающих все человечество.
Анастасия Алексеева: И сейчас, открывая олонхо, можно заметить, как много в нем говорится о сотворении Земли. И тут ты невольно задумываешься о том, как наши предки саха, лежа в своем «балаҕане» (в зимнем жилище саха), так много знали об устройстве мира. Я нахожу в этом нечто космическое и невероятное.
Айтал Алексеев: Однажды мы делали проект от URAAN в виде перфоманса. В течение 30 минут выходили олонхоhуты, а мы крутили ambient, накладывая Олонхо поверх электронного звучания. Это было невероятно, словно ты паришь в свободном полете.
Лорина Гуляева: Давайте поговорим про настоящее саха музыки. У проекта URAAN есть концепция. И ты человек, который активно коммуницирует через современные инструменты и продвигает культуру вне Республики Саха. Как ты сейчас себя чувствуешь и как ты это видишь в будущем?
Айтал Алексеев: Ну, во-первых, как мне кажется, наша культура становится «трендовой». Это можно связать с тем, что у нас понятные и простые ценности — про экологию, семью, сохранение культуры. Все это несет максимально добрый «вайб» и ассоциируется с чем-то светлым. Например, когда мы готовим свою сцену, мы развешиваем салама (тонкую ритуальную веревку с навязанными цветными лентами) — это специальное украшение, которое завязывают с благопожеланиями себе, близким или земле, на которой живут. Наши предки называли салама мостками, откуда слова благословения доходят до небесных божеств Айыы.

У меня много проектов, связанных с различными культурами, но больше всего — про мою собственную, культуру саха. Например, у нас был большой якутский шоу-кейс в Москве, которое собрало большое количество людей. Мы полностью осовременили сцену. Повесили картины Кыданы Игнатьевой, известной художницы из Республики Саха. В этом шоу-кейсе мы стремились максимально отразить свое духовное развитие. И как оказалось, это очень ценится!
Вначале люди не понимают и не осознают, но со временем это набирает обороты и разрастается в такие масштабные мероприятия, как Ыhыах. Через осовременивание культуры мы доносим важные смыслы до молодежи — и это очень круто.
Я много работаю с детьми, поколением зумеров, постоянно рассказываю им про культуру. И замечаю: у целого поколения есть запрос на самоидентификацию, потому что в условиях глобального рынка легко потеряться. Большие культуры замещают малые. Приходит аниме, k-pop, фонк и так далее, съедая все остальное. Но тренды быстро меняются, а мы остаемся.
Мы честны перед собой. Мы не пытаемся подстроиться, оставаясь максимально самобытными в передаче своей информации. Постоянно экспериментируем с артистами, рэперами, шаманами, художниками, бизнесом и креаторами из абсолютно разных культур. И не боимся этого делать, потому что именно в таком миксе рождаются новые ответвления. Так мы доносим «свое» до сердец самой разной аудитории — и это, наверное, одна из сильнейших сторон проекта URAAN.
Тем самым мы привлекаем аудиторию. Они говорят: «Ой, а какие вы классные, оказывается!» Приходят и понимают, что это целый мир — вековое, серьезное знание, в которое они погружаются. Люди остаются в шоке.
Я стою, выступаю, а ко мне подходит парень-рейвер, прыгает на диджейку, обнимает меня и говорит: «Ты открыл мне целый мир». И ради этого мы живем. Дарим эмоции. Надеемся, что у нас это получится и в Казахстане.
Лорина Гуляева: И да, мы верим, что наш Ыhыах поможет зародить новые коллаборации — ведь они будут классными в любом случае. Финальный вопрос все-таки про Ыhыах. Чего вы ожидали от проекта при его создании?
Айтал Алексеев: Я чувствовал большую обратную связь. Это невероятно — осознавать, что ты среди своих и вы создаете что-то вместе. Что мы делаем что-то крутое, и я — часть этого.
Гоша Васильев: Я старался максимально абстрагироваться и воспринимать Ыhыах как Ыhыах. Главным было хорошо отыграть свое выступление. А сам фестиваль хотелось прочувствовать в качестве обычного зрителя.
Анастасия Алексеева: Праздник Ыhыах проводят по всему миру, но в Алматы ощущался особый вайб — мы как будто приехали к родным. Когда находишься далеко от дома, так важно услышать знакомые, родные, исконные звуки. Это настоящая магия. Именно эту атмосферу я и ждала.
Гоша Васильев: Кажется, что именно здесь и сейчас рождается новая история. Например, в Канаде Ыhыах проводится уже 30 лет, но здесь подход совершенно иной. Если смотреть глобально, то саха в Казахстане — это новый феномен, новая пассионарная саха волна. Она интригует, волнует, заставляет задуматься: каким будет наш мир в новых реалиях? Как мы будем нести нашу культуру, мировоззрение, и наши песни?
Эркин Алексеев: Многие авторы, побывавшие на земле Саха ещё в XVIII-XIX вв., отмечали удивительные черты у народа — навык адаптации и способность глокализировать элементы других традиций, пришедших извне. Это выражается и в языке, и в материальном наследии. Так и сегодня саха смело включают самобытные мотивы в изобразительное и музыкальное искусство, адаптируя их к современным жанрам. Это делает наследие не закостенелым и консервированным, а пластичным. И дает надежду на то, что у нашего народа и культуры есть будущее.

- Слушать URAAN: https://music.yandex.ru/artist/4133672
- Слушать Jeedda: https://music.yandex.ru/artist/5321246
- Слушать Анастасия Алексеева: https://music.yandex.ru/album/32893296/track/130155900
- Слушать Эркин Алексеев: https://music.yandex.ru/artist/10384671