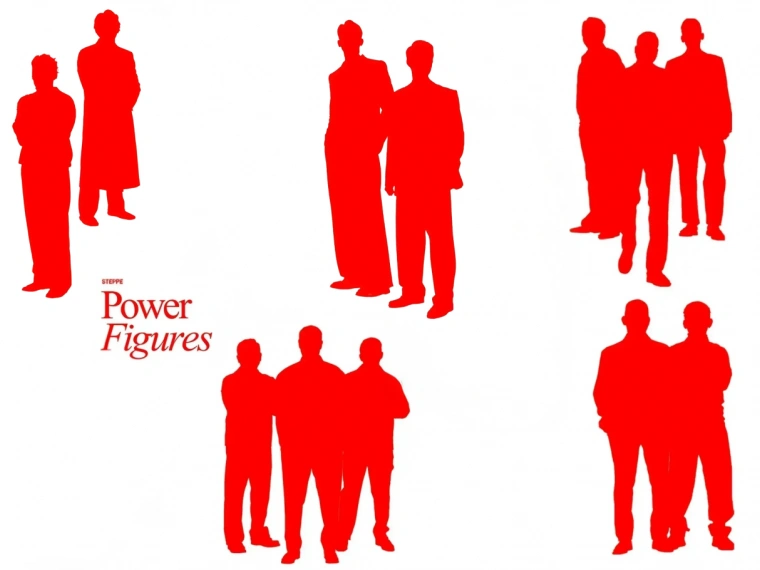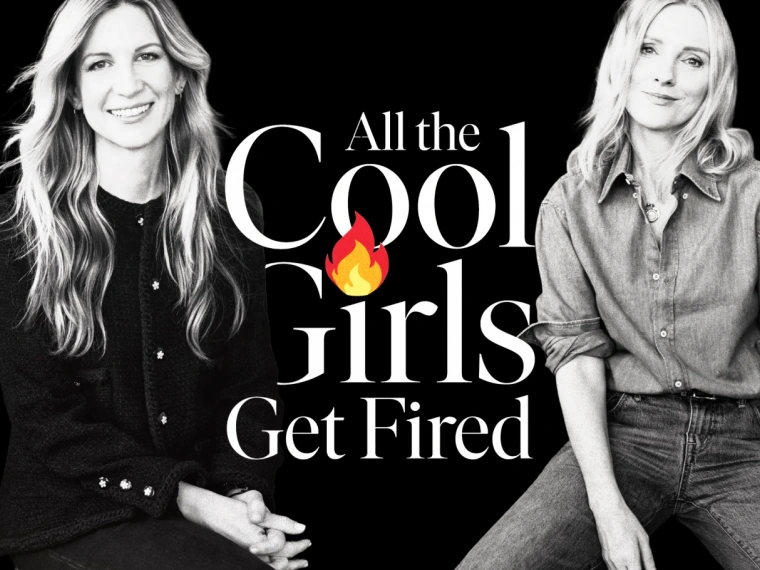Опыт Семипалатинского полигона до сих пор не осмыслен — Тогжан Касенова
Тогжан Касенова — доктор политических наук, эксперт по ядерной политике и автор книги «Атомная степь: как Казахстан отказался от ядерного оружия». Недавно она вошла в состав международной комиссии при ООН, которая изучает последствия возможной ядерной войны для человечества. В интервью OY-DETOX Тогжан рассказала о глобальных рисках, о том, почему память о Семипалатинском полигоне до сих пор не осмыслена обществом, и что значит «выбор» для человека и государства.
Данное интервью является текстовой версией подкаста OY-DETOX Айнель Амирхан и подготовлено специально для STEPPE. Видеоверсию интервью можно посмотреть на YouTube.
Новая роль в комиссии ООН
Недавно меня выбрали одним из членов комиссии ООН, которая будет состоять из 21 человека. Комиссия будет работать два года под эгидой ООН над исследованием того, как ядерная война может повлиять на планету и человечество. Эта группа объединяет различных экспертов и ученых. В 2027 году, на Генеральной ассамблее ООН, мы должны будем представить результаты нашего исследования. Для меня, как для человека, родившегося и выросшего в Казахстане — стране, которая до сих пор платит цену за советское ядерное оружие, — и как для специалиста в области ядерной политики, это огромная честь и дело, которым я буду заниматься с большим удовольствием.
Пока ядерное оружие существует, каждую секунду может произойти ядерный обмен. Под эгидой ООН подобное исследование проводилось в последний раз в 1980-х годах. С тех пор наука значительно продвинулась, поэтому важно иметь новые обобщенные данные, которые помогут в глобальном дискурсе и усилиях по избавлению мира от ядерного оружия.
Мне кажется, чем четче будут обозначены реальные риски, тем больше чувство ответственности возникнет у стран, обладающих ядерным оружием. Ведь угроза касается не только их — если что-то произойдет, пострадает вся планета.
О роли родителей
Вопросами ядерной политики я начала заниматься еще в докторантуре, когда выбирала тему исследования. Я училась в Великобритании и тогда решила сосредоточиться на ядерной политике с фокусом на США и Россию. Я знала, что хочу работать профессионально именно в этой сфере.
Через несколько лет, когда я накопила базу знаний, пришла идея написать книгу о ядерной истории Казахстана — страны, из которой я родом.
Моя диссертация была о программах США по снижению ядерных рисков в постсоветских странах. Основной акцент был на отношениях США и России после окончания холодной войны. Эти программы были известны как «Программы Нанна-Лугара». Именно они помогли России, Казахстану, Украине и Беларуси снизить ядерные угрозы в начале 1990-х.
К сожалению, именно о ядерной тематике мы c отцом не успели поговорить. На тот момент я еще не знала, что это станет моей профессией. Но я уже начала профессиональную деятельность, когда отец был жив, и он поддерживал меня. В то время я работала журналистом в газете «Деловая неделя» как дипломатический корреспондент, и я всегда советовалась с ним по международным вопросам.
Мой отец был основателем и первым директором Казахстанского института стратегических исследований. Его деятельность была связана с предоставлением независимого аналитического сопровождения государственным решениям. В начале 1990-х ядерная политика тоже входила в его круг интересов, но он занимался гораздо более широким спектром внешнеполитических и стратегических вопросов.
Роль мамы невозможно переоценить. Часто думают, что на меня повлиял только отец, но это не так. Моя мама — физик-теоретик, долгое время преподавала в техническом вузе. Она настоящий ученый и педагог, и ее влияние на нас было огромным, как в профессиональном, так и в человеческом плане. Она удивительно добрая, эмпатичная, очень чувствует людей. Думаю, именно эта её черта тоже сильно повлияла на меня.
Первые эмоции и сила пострадавших
Когда я начала ездить в села возле бывшего полигона мои первые эмоции, конечно, были негативные. Была злость — и на советское правительство, и на наше, казахстанское. Ведь прошло уже больше 30 лет с момента распада Советского Союза, а пострадавшим все еще не оказывается достаточной помощи.
Первые поездки были полны тяжелых чувств: депрессии, злости, где-то отчаяния. Но чем чаще я приезжала и чем больше знакомилась с семьями, тем сильнее они меня вдохновляли. Я видела, что эти люди невероятно стойкие. В чем-то они даже счастливее, чем богатые люди с дисфункциональными семьями, у которых есть деньги, но нет доверия или поддержки.
Наш народ очень резилиентный. Конечно, это не по собственной воле, а скорее из необходимости. Но именно тогда я начала понимать: отчаяние — не фундамент, на котором можно что-то построить или помочь другим. У меня появилось четкое чувство миссии. Если люди, которым намного тяжелее, чем мне, продолжают жить, создавать семьи, бороться за справедливость, то и я должна взять себя в руки и делать все возможное.
Коллективная память и осмысление прошлого
Думаю, полного осознания еще нет. Частично потому, что в обществе почти не было обсуждения этой темы, особенно на образовательном уровне. Когда я общаюсь с молодежью, они рассказывают: в учебниках о полигоне было максимум полстраницы. В основном там лишь упоминалось, что президент Назарбаев закрыл полигон в 1991 году. Практически ничего не говорилось о движении «Невада-Семей», об участии простых граждан в антиядерных протестах.
Поэтому информации очень мало — и о том, что происходило, и о том, какое влияние это имело. Но это также естественный процесс для Казахстана: мы только начинаем оглядываться назад и постепенно изучать более сложные и трагические страницы своей истории. Это болезненно. Я понимаю людей, которые не хотят об этом говорить или даже думать. Вы сами сказали, что вам не хотелось читать об этом — и это абсолютно понятно.
Мне кажется, мы лишь в начале этого процесса, но в последние годы он набирает силу. Особенно радует интерес молодежи: они понимают, что без глубокого осмысления прошлого невозможно двигаться в будущее.
При этом важно подчеркнуть: никого нельзя торопить. У каждой семьи и каждого человека есть право — говорить или не говорить, начинать делиться переживаниями только тогда, когда они будут готовы. Это нельзя делать «по заказу». Но мы можем создать условия, где такие истории будут звучать с уважением и эмпатией. Это поможет вынести на свет коллективный опыт и понять, как двигаться дальше.
Земля, право на выбор и нерешенные проблемы
Я не технический специалист, чтобы утверждать, какие зоны заражены, а какие нет. Но если учесть, что территория бывшего полигона по площади сопоставима с Бельгией, очевидно, что загрязнение распределено неравномерно. Есть места крайне опасные, и здесь я согласна: они должны быть огорожены, доступ туда должен быть закрыт и для людей, и для животных. Но также нужно помнить, что исторически это земля местных жителей. Здесь похоронены их предки, для них это не только символ ядерной катастрофы, но и родной дом.
Необходима серьезная, скрупулезная работа по определению зон риска. И важно давать людям выбор, а не относиться к ним как к тем, кто не понимает, что для них лучше. Для меня это принципиальный вопрос.
Проблемы, с которыми сталкиваются пострадавшие
Первый пласт — это прямое влияние советских ядерных испытаний. Люди, которые получили высокие дозы радиации, передали последствия детям и внукам: второе, третье, четвертое поколение продолжает страдать. Я не врач, не могу утверждать, связано ли это с генетическими изменениями или с продолжающимся воздействием среды, но факт остается фактом: многие семьи сталкиваются с тяжелыми заболеваниями, включая детей.
Формально есть закон 1992 года, который дает определенные льготы, включая бесплатное медицинское обслуживание. Но он давно устарел. Пример: у ребенка в карточке может стоять диагноз, связанный с воздействием радиации, но семья живет в Кайнаре или Карауле. Чтобы получить лечение, нужно ехать в Семей или Астану.
У семьи часто нет средств, а пребывание в городе никак не покрывается. Еще одна проблема: не все болезни входят в список, закрепленный законом, и люди оказываются «между строк» — помощь им формально не положена. Все это накладывается на социально-экономический контекст. Сельская местность в Казахстане в целом в тяжелом положении. В поселках возле полигона часто нет элементарной инфраструктуры — канализации, водопровода.
Надежда и позитивные сдвиги
Несмотря на сложности, есть люди и инициативы, которые продолжают бороться. Общественники вроде Майры Абеновой в Семее, а также молодежные инициативы поднимают вопросы пострадавших и добиваются изменений.
Есть и позитивные международные шаги. Казахстан стал одним из лидеров в продвижении помощи пострадавшим от ядерных испытаний и оружия на глобальном уровне. В новом Договоре о запрещении ядерного оружия есть статьи о реабилитации жертв и земель. Казахстан вместе с Кирибати ведет важную работу в ООН по продвижению этих вопросов. Это не только международная политика — такие шаги стимулируют и внутренние процессы. Поэтому, несмотря на тяжелое наследие, я вижу позитивные изменения последних лет и верю, что они приведут к реальным улучшениям.
Читайте также: 34 года с закрытия Семипалатинского полигона: почему это событие до сих пор определяет настоящее Казахстана