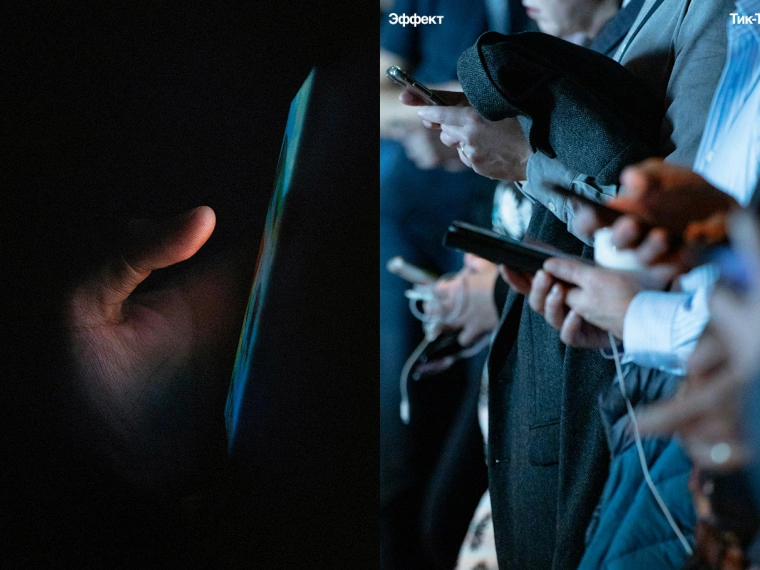Читая Симону де Бовуар: Колониален ли западный феминизм?
Сидя в одной городской кофейне, мы с подругой, недавно ставшей келiн, обсуждали ее новую гендерную роль: что было ново, тяжело или облегчило ей жизнь.
В этих новых условиях обозначали пункты, по которым можно пойти на компромисс и пункты, не подлежащие переговорам. В этом процессе мы обращались к опыту наших мам, сестер, замужних подруг и сопоставляли опыт, как нам казалось, присущий разным регионам Казахстана с родовой принадлежностью.
После разговора задумалась о том, а на чем стоит это разделяемое мной и моей подругой знание об этой гендерной роли и женщине в широком смысле. Откуда я знала, что ей можно подумать о компромиссе по вопросу имени ее новорожденного ребенка, и почему я ей это уверенно советую. Не интересуясь теорией феминизма, я обратилась к magnum opus французской писательницы, идеолога феминистского движения и философа Симоны де Бовуар.
Читая «Второй пол» Бовуар, меня не покидает мысль, что феминизм сегодня может быть довольно колониальным явлением, потому что, как отмечала американский философ Джудит Батлер, в первую очередь нет никакой универсальной «женщины». За этой гомогенизирующей идеей лежит все та же модерность, затемняющая бесконечное число больших историй и их нюансов, заставляя все время пытаться что-то сказать о себе и ничего так и не сказать.
Что, например, #metoo говорит о ситуации казахских женщин? Или что о ней говорит кампания Хилари Клинтон? Эти события, очертившие новые контуры «мирового», по крайней мере, популярного феминизма ничего не говорят о нашей ситуации. Только то, что глобализация все еще продолжает идти под флагом американизации.
Есть миллионы женщин, для которых не существует универсального понятийного аппарата, разве что первичные половые признаки – да, у женщин они одинаковые, однако социальность у всех совершенно разная, потому что разные институты социализации.
Если женщина, о которой пишет Бовуар, это «продукт» цивилизации, который стоит на обломках Рима, христианства, Средневековья, Просвещения, Нового времени и западного капитализма, то женщина мусульманка или женщина из тюркского мира растут из абсолютно иных мест, систем ценностей и верований.
Например, автор придает много значения религиозным текстам и их роли в формировании знания о женщинах, или, лучше сказать, в создании некоего симулякра женщины. Так, в паре христианского Адама и Евы именно последняя предстает падкой на соблазн, ее искушают, а после она искушает Адама.
Если мы соглашаемся с тем, что такой тип знания о протоженщине действительно формировал ее дальнейшую угнетенную судьбу в христианском мире, то нам стоит серьезно задуматься о том, что в Коране история изгнания протолюдей из рая немного отличается от ветхозаветной: соблазну шайтана поддаются и мужчина, и женщина одновременно. Стоит ли это считать зачатками равенства? А что мы знаем о буддистской или конфуцианской женщине?
В другом месте автор обращает много внимания на то, что угнетенная судьба женщин тесно связана, или даже вытекает из появления частной собственности. У казахов, например, частной собственности на землю и частной собственности в западном понимании не было в описываемый период. Понятно, что казахская женщина не может быть описана этой картиной эволюцией женщины. Словом, если опираться только на текст Бовуар, то мы предстаем для себя непознанным объектом, который терминами западного феминизма не опишешь. Иначе получается пустое заимствование.
В общем, Симона де Бовуар пишет из центра французской империи и описывает зарождение, становление и жизнь белой женщины среднего класса или из аристократии, и тем самым приближает по возможности ее смерть.
У Бовуар нет казахских, узбекских, азербайджанских, чернокожих, китайских или мусульманских женщин с их нюансами, языком, системой ценностей. Вряд ли парижанки в 60-е во время бушующего марксизма, фрейдизма и структурализма проживали те же судьбы, что женщины в казахских аулах. Время течет по-разному и оно совершенно не линейно.
Например, автор пишет: «Русская женщина, находящаяся, как и все трудящиеся, в тесной зависимости от государства и прочно привязанная к домашнему очагу, но при этом имеющая доступ к политической жизни и пользующаяся тем уважением, какое сообщает ей производительный труд, оказывается в особом положении; его своеобразие было бы полезно изучить вблизи, на месте; к несчастью, обстоятельства не позволяют мне это сделать».
Кто эта «русская женщина»? Мне неизвестно, как Бовуар понимала СССР, но это важно, потому что если она рассматривала его не как империю, то, наверное, под «русской женщиной» она имела в виду и наших бабушек и мам. Это тоже проблематично, потому что вряд ли казахские женщины, не знавшие русского языка и по большей части проживавшие в аулах, имели доступ к политической жизни.
Что же мы знаем про себя? Кем, когда и как создавалось знание о казахской, постсоветской женщине? Кто она? Женщина по Шакариму, Абаю, что писали о нас поэты эпохи Зар заман, кем были жены ханов, какие у них были права и обязанности? Что за женщина степей, она монголка или она из тюрков? Считать ли нам Бортэ из коныратов ключевой фигурой для женщин кочевой цивилизации? Почему нам известны имена четырех сыновей Чингисхана и ничего про дочерей? Нам мало что известно о себе, но у нас есть подозрительность, сомнения и кое-какие исходные позиции.
Например, мы знаем, что в степи не было деспотии по типу восточной или западной, монополии на насилие и частной собственности. Ислам был самобытный. Этого должно быть достаточно, чтобы начать подступаться к открытиям о себе.
Словом, феминизм тоже необходимо деколонизировать, но это нелёгкий путь, каждый прокладывает его для себя сам, но, я думаю, что этот путь непременно проходит через освоение исторического знания, что для нас тоже проблематично, если подумать, например, что мы все еще ведем споры о том, откуда кто пришел, почему мы, как своеобразные наследники монгольской империи, тем не менее, говорим на языке принадлежащем к тюркским, когда начался и закончился казахский этногенез.
Пока я точно знаю, что принадлежу к одному из племен Старшего Жуза, который долгое время проживал в Могулистане. Это значит, что мое путешествие начнется не там, где оно начинается традиционно для многих – в улусе Джучи, а в улусе Чагатая, который часто отсутствует в нашей ментальной карте.